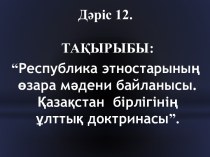- Главная
- Разное
- Бизнес и предпринимательство
- Образование
- Развлечения
- Государство
- Спорт
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Религиоведение
- Черчение
- Физкультура
- ИЗО
- Психология
- Социология
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Геометрия
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Что такое findslide.org?
FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.
Обратная связь
Email: Нажмите что бы посмотреть
Презентация на тему История Московского концептуализма
Содержание
- 2. В советском искусстве концептуализм стал первым
- 3. Концептуализм получил распространение практически в одном городе
- 4. Как уже отмечалось, концептуализм во всем мире
- 5. В 1960-е годы во всем мире искусство
- 6. Концептуальная эстетика в СССР зарождается на специфическом
- 7. В СССР начала 1970-х годов было два
- 8. Илья Кабаков получил в 1950-е годы традиционное
- 9. На раннем этапе московского концептуализма гипертрофия словесного
- 10. В 70-е и начале 80-х годов соц-арт
- 11. Опорная составляющая понятия - «соц» - часто
- 12. Четкую грань между московским концептуализмом и соц-артом
- 13. В большинстве соц-артистских работ деконструкция получила характер
- 14. Как правило, соц-артисты остаются индифферентными к использованию
- 15. Подчеркнуто значительный, как бы парадный автопортрет Комара
- 16. Одним из наиболее заметных явлений в истории
- 17. Но все же - не эмоциональное и
- 18. В 1980-е годы, когда после либерализации середины
- 19. Сценой для первой тенденции - веселых, витальных,
- 20. «Мухоморы» довели повествовательность, свойственную русскому искусству вообще,
- 21. Аналогичная «новая волна» в начале 1980-х годов
- 22. Она представлена в основном творчеством младших членов
- 23. В этом отношении наиболее радикальную позицию заняла
- 24. При том, что творчество многих художников достаточно
- 25. После распада системы двух политических лагерей мировое
- 26. Так в искусстве конца XX века формируется
- 27. Распад СССР в 1991 году и «приватизация»
- 28. Еженедельные выставки-проекты в галерее художников в Трехпрудном
- 29. Критика модернизма с позиций реальности, или, точнее,
- 30. Именно этот подход к видимой действительности многие
- 31. Позитивный жест оказывается в конце XX века
- 32. Скачать презентацию
- 33. Похожие презентации
В советском искусстве концептуализм стал первым (с начала 20-х годов) художественным направлением, хронологически совпадающим с западными движениями. Первые концептуальные работы наших художников относятся к концу 60-х - началу 70-х годов, т.е. к периоду расцвета концептуализма
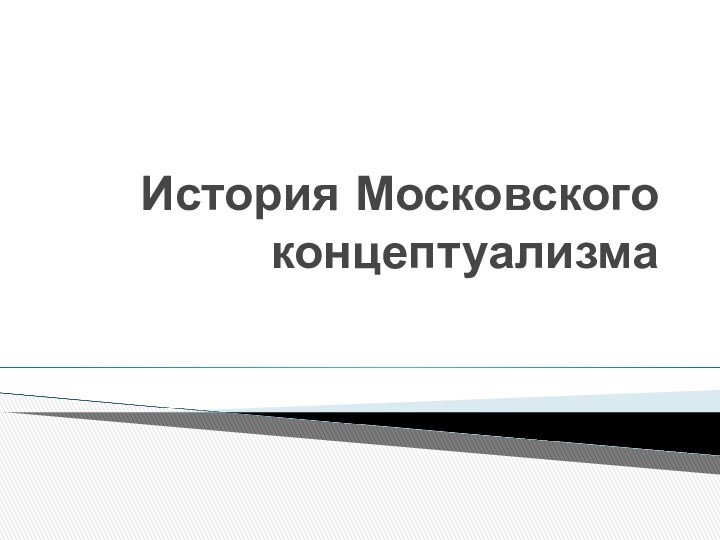
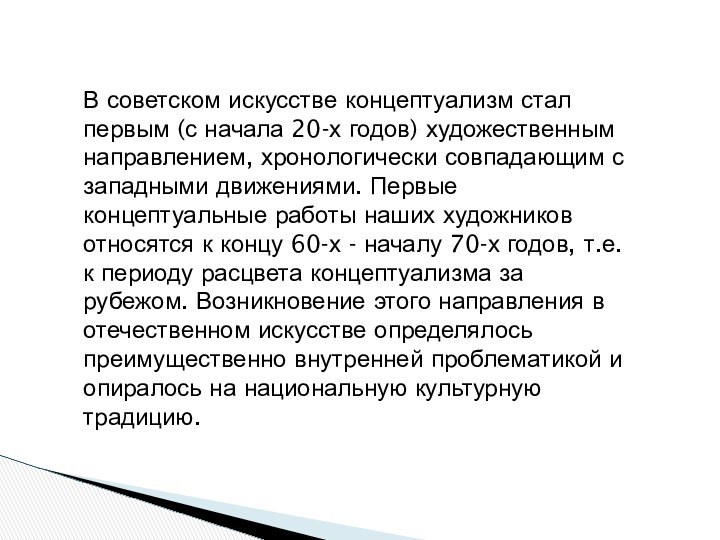
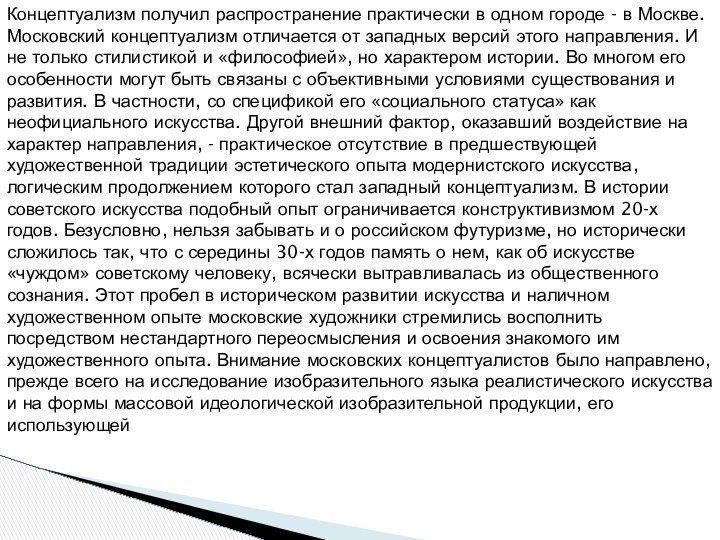



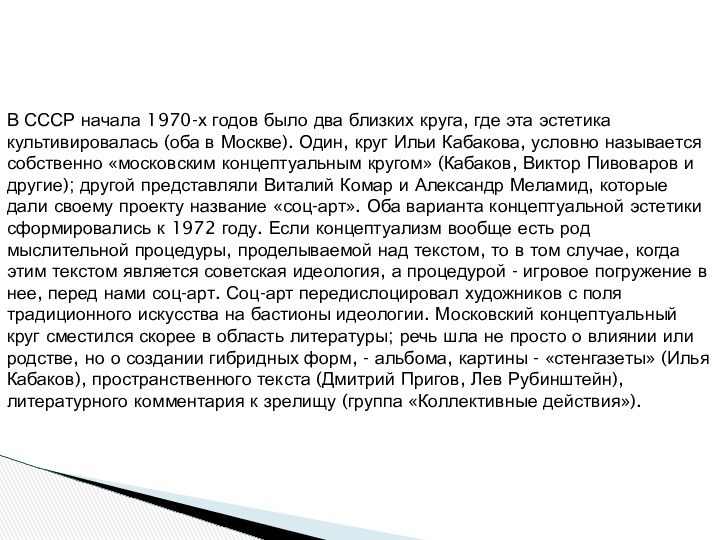


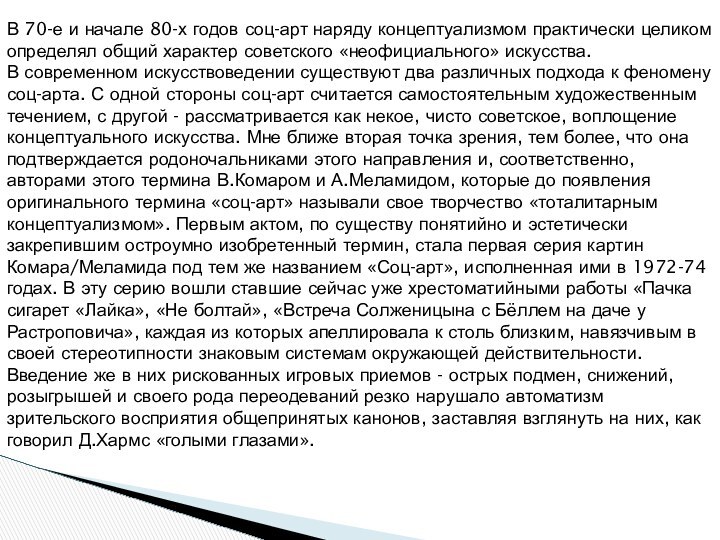





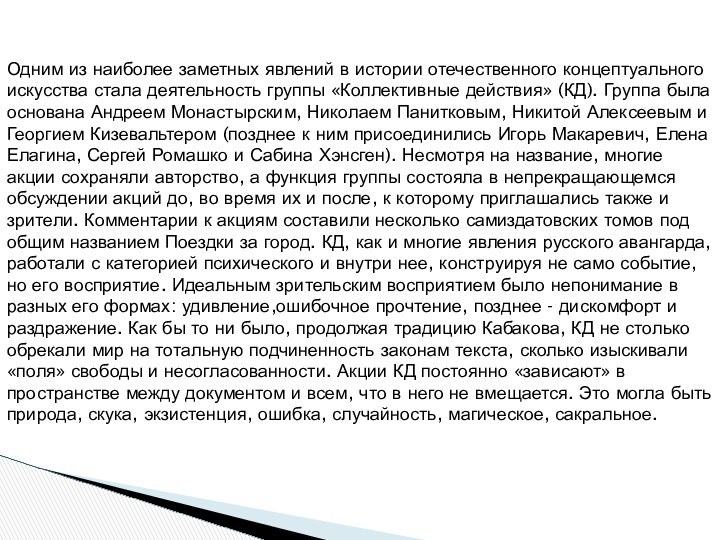



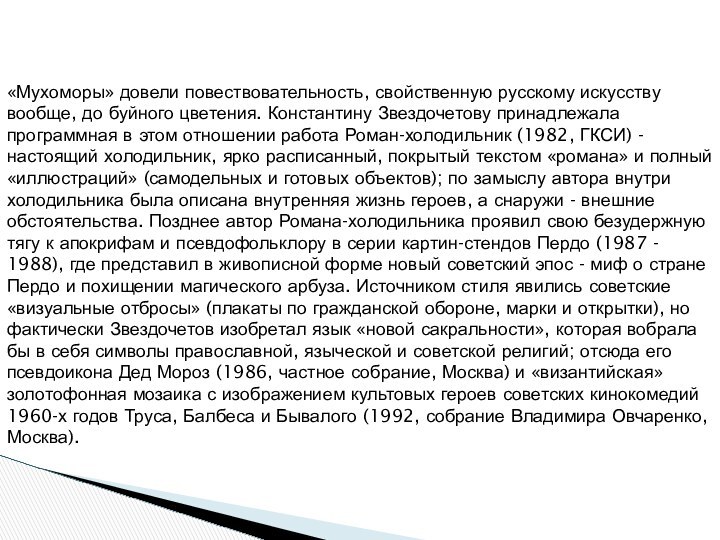
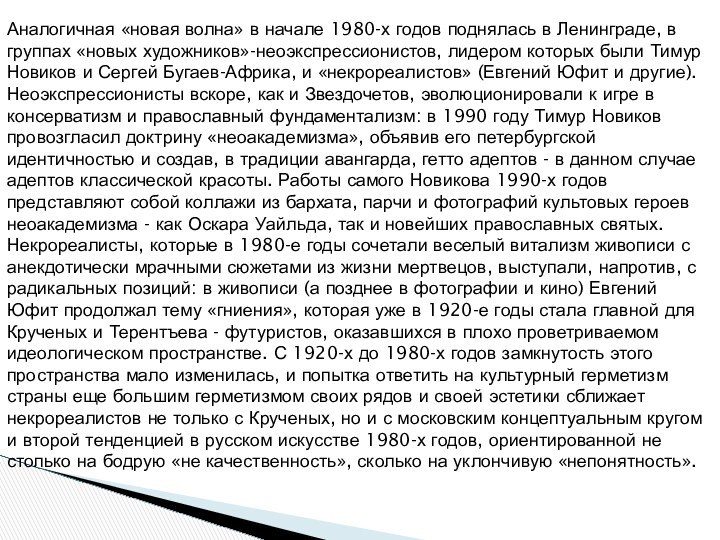







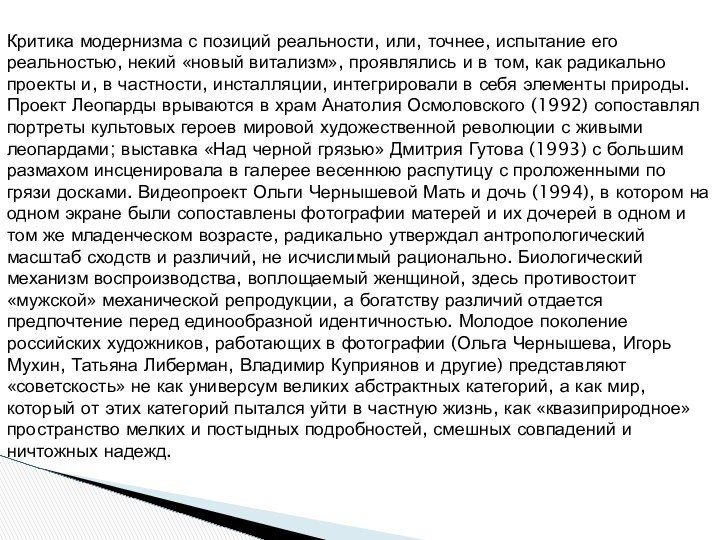
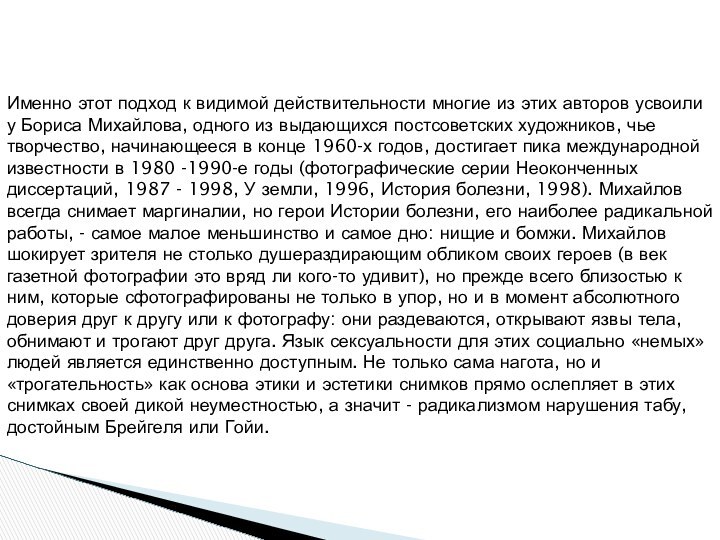
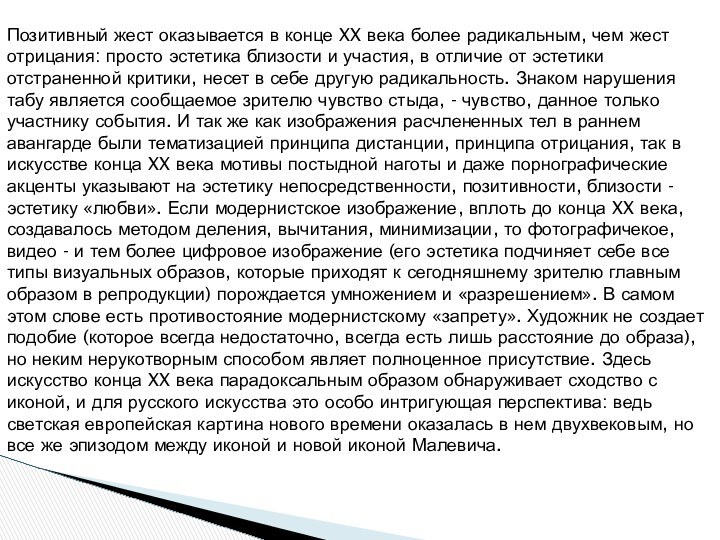
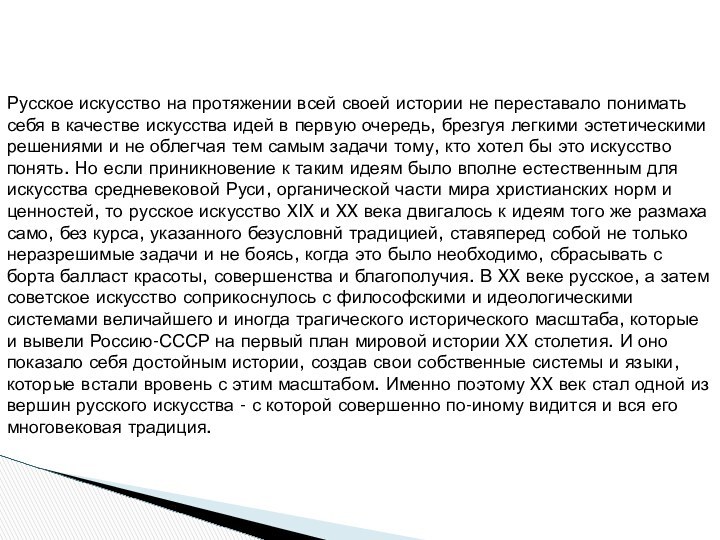
Слайд 3 Концептуализм получил распространение практически в одном городе -
в Москве. Московский концептуализм отличается от западных версий этого
направления. И не только стилистикой и «философией», но характером истории. Во многом его особенности могут быть связаны с объективными условиями существования и развития. В частности, со спецификой его «социального статуса» как неофициального искусства. Другой внешний фактор, оказавший воздействие на характер направления, - практическое отсутствие в предшествующей художественной традиции эстетического опыта модернистского искусства, логическим продолжением которого стал западный концептуализм. В истории советского искусства подобный опыт ограничивается конструктивизмом 20-х годов. Безусловно, нельзя забывать и о российском футуризме, но исторически сложилось так, что с середины 30-х годов память о нем, как об искусстве «чуждом» советскому человеку, всячески вытравливалась из общественного сознания. Этот пробел в историческом развитии искусства и наличном художественном опыте московские художники стремились восполнить посредством нестандартного переосмысления и освоения знакомого им художественного опыта. Внимание московских концептуалистов было направлено, прежде всего на исследование изобразительного языка реалистического искусства и на формы массовой идеологической изобразительной продукции, его использующейСлайд 4 Как уже отмечалось, концептуализм во всем мире начинается
почти одновременно - как искусство «после 1968 года» или
«около 1968 года». На Западе, где 1968 год принес студенческую революцию, это был проект эры новой политической свободы и мобильности, эры странствий, как авторов, так и произведений. Но и в СССР, где 1968 год связан не с темой свободы, но с темой угнетения, происходило то же самое: диссидентская политика была программно антиизоляционистской, построенной на идее единства мира и на представлении о том, что даже «железный занавес» проницаем, - не для тел, так для идей. Диссидентское движение в СССР пошло по пути создания реальных медиальных каналов перемещения этих идей. Концептуализм разыграл тот же самый процесс в пространстве искусства. Именно в 1970-е годы художники создали свой печатный орган, журнал А- Я, выходивший в Париже в 1979 - 1986 годах. Местом для искусства в СССР в 1970-е годы перестала быть «темная» комната в коммуналке, но ее место заняла не «белая» галерея, а светлая мастерская на чердаке высокого дома (именно такие были у Ильи Кабакова и Эрика Булатова), где шли не выставки или купля-продажа работ, а обсуждения, диалоги и документация этих диалогов. Такая модель потребления, которая одновременно является и творчеством, - коллективная стимулирующая сама себя рефлексия - восходит еще к концу 1900-х годов и к «Союзу молодежи», который целью своей деятельности сделал самообразование, понятое как художественный проект.Слайд 5 В 1960-е годы во всем мире искусство окончательно
уравнивается не с созданием новой формы или даже новой
идеи, а с критическим исследованием того, что уже существует и не может быть изменено. Концептуализм, влияние которого определяет всю вторую половину века, не отрицает традиционное искусство, но равнодушно удаляется с его поля в пространство некоей «другой деятельности». Она граничит с наукой, литературой, философией, но не идентична им: статус этой деятельности (и этим статусом концептуализм очень дорожит) - стоящая надо всеми профессиями критика вообще, диагностика любых отчуждений. Не расценивая уже превращение жизни в текст как драму, концептуализм спокойно и не без юмора видит текст в любом феномене природы или культуры, описывая его только как систему условностей, - во исполнение максимы Витгенштейна «о чем нельзя говорить, о том следует молчать».Слайд 6 Концептуальная эстетика в СССР зарождается на специфическом фоне:
в стране, которая пыталась упразднить любые отчуждения, как социальные,
так и эстетические, и создать сакральное, райское пространство, где были бы забыты негативные категории, различия и условности. Осуществление этого авангардистского проекта требовало огромного репрессивного ресурса, который должен был удерживаться вне пределов сознания, поскольку любое исследование негативных категорий в «райском» мире запрещалось как диссидентское. В результате к середине XX века советская эстетика в массе своей зашла в тупик. Неофициальное искусство 1950-1960-х годов само отчасти не избегло некоторого безумия, но концептуализм предложил выход в сторону здравого смысла. Он подорвал основу советского искусства - отказ от критической рефлексии; но он же проанализировал сам этот отказ, вписав советское искусство в авангардный проект и выступив тем самым его историческим оправданием. «Московский концептуализм», таким образом, является завершением национальной традиции в XX веке сам термин есть идиоматическое название движения, подобное слову «Флюксус» или «дада», и не означает, что это искусство всегда и стопроцентно концептуально. Слова «московский коцептуализм» следует всегда мысленно заключать в кавычки.Слайд 7 В СССР начала 1970-х годов было два близких
круга, где эта эстетика культивировалась (оба в Москве). Один,
круг Ильи Кабакова, условно называется собственно «московским концептуальным кругом» (Кабаков, Виктор Пивоваров и другие); другой представляли Виталий Комар и Александр Меламид, которые дали своему проекту название «соц-арт». Оба варианта концептуальной эстетики сформировались к 1972 году. Если концептуализм вообще есть род мыслительной процедуры, проделываемой над текстом, то в том случае, когда этим текстом является советская идеология, а процедурой - игровое погружение в нее, перед нами соц-арт. Соц-арт передислоцировал художников с поля традиционного искусства на бастионы идеологии. Московский концептуальный круг сместился скорее в область литературы; речь шла не просто о влиянии или родстве, но о создании гибридных форм, - альбома, картины - «стенгазеты» (Илья Кабаков), пространственного текста (Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн), литературного комментария к зрелищу (группа «Коллективные действия»).Слайд 8 Илья Кабаков получил в 1950-е годы традиционное образование
художника-графика и работал иллюстратором детских книг. Рассматривая эту деятельность
как рутинную, он, тем не менее не отрицал ее, а исследовал в форме отдельных произведений. Это небольшие листы бумаги или огромные листы оргалита, но в любом случае - белый экран, где нарисованы или приклеены инфантильные предметы (палка, мяч, муха...) и написаны от руки фразы. Фразы принадлежат фиктивным персонажам, которые позволяют себе высказывать о предметах суждения или устанавливать логические связи («Анна Борисовна Стоева: «Чья это муха?». Николай Маркович Котов: «Это муха Ольги Лешко.Слайд 9 На раннем этапе московского концептуализма гипертрофия словесного комментария
отнюдь не исключает столь же навязчивой потребности в изображении,
архаической «картинке». Ее уже нельзя понимать ни реалистически, как утверждение, ни соцреалистически, как требование изображение вовлекается в систему условных отношений «если, то» и может свидетельствовать как о данности, так и об отсутствии: вынести суждение невозможно. В серии рисунков Интерпретация знаков (1968) бытовая сценка всякий раз дополнена скрупулезной «легендой»: лампа - это «отношения с женой», а кусок стены между креслом и диваном - «крупный долг одному приятелю». Изображение и комментарий здесь не в силах соответствовать друг другу и взаимно разочарованы, а художник выстраивает параллели лишь затем, чтобы очертить контуры того, что ими не схватывается, границы «невыразимого». В московском концептуализме нет той легкости обмена визуальности на текст, конвертируемости одного в другое, которыми пронизан концептуализм западный; Кабаков, напротив, культивирует ощущение неадекватности этого перевода, чреватого невосполнимой потерей. Вновь апеллируя к Витгенштейну, можно сказать, что Кабаков проявляет интерес прежде всего к тому, «о чем следует молчать», сообщая о присутствии таинственного пустотой и белизной фона. Именно поэтому искусство круга Кабакова его главный теоретик Борис Гройс в 1979 году определил как «московский романтический концептуализм».Слайд 10 В 70-е и начале 80-х годов соц-арт наряду
концептуализмом практически целиком определял общий характер советского «неофициального» искусства.
В
современном искусствоведении существуют два различных подхода к феномену соц-арта. С одной стороны соц-арт считается самостоятельным художественным течением, с другой - рассматривается как некое, чисто советское, воплощение концептуального искусства. Мне ближе вторая точка зрения, тем более, что она подтверждается родоночальниками этого направления и, соответственно, авторами этого термина В.Комаром и А.Меламидом, которые до появления оригинального термина «соц-арт» называли свое творчество «тоталитарным концептуализмом». Первым актом, по существу понятийно и эстетически закрепившим остроумно изобретенный термин, стала первая серия картин Комара/Меламида под тем же названием «Соц-арт», исполненная ими в 1972-74 годах. В эту серию вошли ставшие сейчас уже хрестоматийными работы «Пачка сигарет «Лайка», «Не болтай», «Встреча Солженицына с Бёллем на даче у Растроповича», каждая из которых апеллировала к столь близким, навязчивым в своей стереотипности знаковым системам окружающей действительности.Введение же в них рискованных игровых приемов - острых подмен, снижений, розыгрышей и своего рода переодеваний резко нарушало автоматизм зрительского восприятия общепринятых канонов, заставляя взглянуть на них, как говорил Д.Хармс «голыми глазами».
Слайд 11 Опорная составляющая понятия - «соц» - часто провоцирует
на неверное истолкование соц-арта как искусства социального, что позволяет
причислить к нему целый круг сложившихся в начале 80-х годов художников, чье действительно социально заостренное творчество направлено на вскрытие глубоких общественных ран. Однако бичевание, обличение или надрывная проповедь, звучащие в их работах скорее попадают в арсенал критического реализма, оголяющего нервы ради болезненного, но действенного врачевания. Соц-арт же принципиально деструктивен по отношению к тому социальному мифу, в рамках которого он работает, и прежде всего по отношению к его парадно-рекламной вывеске, роль которой так долго исполнял социалистический реализм.Слайд 12 Четкую грань между московским концептуализмом и соц-артом провести
достаточно сложно. Размытость границ между этими направлениями обусловлена не
только их параллельным существованием в кругу московских художников, но и часто близкими методами работы. И все же принципиально важно обозначить, хотя бы бегло, основные различия в искусстве московских концептуалистов и соц-артистов.Основной прием построения соц-артистских работ принято интерпретировать как деконструкцию советской мифологии и символики. Этот прием лежит также в основе многих концептуальных произведений. В свою очередь, использование соц-артом идеологической символики сообщает этому направлению концептуальный оттенок. Весьма сложно определить направленческую принадлежность таких работ, как, например, «Лозунг» создателей соц-арта В.Комара и А.Меламида, «График истории» или «Железный занавес» (столь хорошо известный широкому зрителю по фильму С.Соловьева «АССА») группы «Гнездо».
Слайд 13 В большинстве соц-артистских работ деконструкция получила характер своеобразного
социального действия, точнее – противодействия. Саму социальную тему эти
художники интерпретируют в духе игры, будучи обращены, как правило, к внешней, общественной стороне функционирования социалистических мифов. Поэтому для соц-арта такое значение имеет политическая символика и тематика. Характерно также, что наиболее яркие примеры соц-арта нашли свое отражение в так называемом «парадном стиле» (работы Комара и Меламида, Б.Орлова, В.Лебедева).Соц-артисты обычно сохраняют выразительность пластического образа произведений искусства. Концептуалисты стремятся его максимально нейтрализовать. Соц-артистам чуждо свойственное большинству концептуальных работ внимание к невыразительному, неприметному, повседневному, к «пустым», невыразительным формам жизни. Они стремятся поразить зрителя неожиданным сочетанием элементов, яркими красками. Соц-артисты зачастую работают на выразительном и эффектном художественном жесте, концептуалисты - на сложно разработанной и стремящейся к полной пластической нейтральности системе отношений между элементами произведения искусства, произведением и художником, искусством и зрителем.
Слайд 14 Как правило, соц-артисты остаются индифферентными к использованию естественных,
природных свойств материалов. Их в большей степени привлекают эффекты
неожиданного перемещения материала или эффекты чисто оптического, фактурного порядка. Такое использование материала противоположено эстетике «прямого взгляда», на которой строится большинство концептуальных работ. Кроме того, в своих произведениях концептуалисты, несмотря на отмеченное пренебрежение внешними формами искусства, сохраняют интерес к естественным свойствам материала. Во многих концептуальных работах используются природные материалы в их чистом виде: земля и хлеб (В.Герловин), снег (А.Жигалов), трава, зола и пепел от костра (Н.Алексеев).И, наконец, концептуалисты в большей мере и более активно интересуются взаимодействиями различных искусств, тогда как творчество большинства соц-артистов как правило реализуется в сфере пластических искусств.
Соц-арт, оправдывая свое первое название «тоталитарный концептуализм», довел изначальную абсурдность насаждавшихся соцреализмом стереотипов до земного апогея. Он не затевал неравный бой с «ветряными мельницами» суперметода, но занял безошибочно срабатывающую метапозицию - то есть позицию стороннего наблюдателя, холодно и точно обезвреживавшего священные заповеди придворного стиля, переводя их в предмет иронизирования и скандальных разоблачительных импровизаций.
Слайд 15 Подчеркнуто значительный, как бы парадный автопортрет Комара и
Меламида (Комар/Меламид «Двойной автопортрет», 1973) подавался как намеренное обращение
к избитому иконографическому шаблону медальерного изображения основоположников марксизма-ленинизма. Обыгрывание столь знакомых прославляющих интонаций в тексте обрамления «Известные художники 70-х годов XX века», работа в сакрально-государственной цветовой гамме, обилие красного цвета и имитация осеняющей лики мозаичной золотой кладки - все это придавало изображению обратный взрывной смысл, обыгрывающий и величие пародийно используемого праобраза, и значимость собственных увековечиваемых подобным образом персонСлайд 16 Одним из наиболее заметных явлений в истории отечественного
концептуального искусства стала деятельность группы «Коллективные действия» (КД). Группа
была основана Андреем Монастырским, Николаем Панитковым, Никитой Алексеевым и Георгием Кизевальтером (позднее к ним присоединились Игорь Макаревич, Елена Елагина, Сергей Ромашко и Сабина Хэнсген). Несмотря на название, многие акции сохраняли авторство, а функция группы состояла в непрекращающемся обсуждении акций до, во время их и после, к которому приглашались также и зрители. Комментарии к акциям составили несколько самиздатовских томов под общим названием Поездки за город. КД, как и многие явления русского авангарда, работали с категорией психического и внутри нее, конструируя не само событие, но его восприятие. Идеальным зрительским восприятием было непонимание в разных его формах: удивление,ошибочное прочтение, позднее - дискомфорт и раздражение. Как бы то ни было, продолжая традицию Кабакова, КД не столько обрекали мир на тотальную подчиненность законам текста, сколько изыскивали «поля» свободы и несогласованности. Акции КД постоянно «зависают» в пространстве между документом и всем, что в него не вмещается. Это могла быть природа, скука, экзистенция, ошибка, случайность, магическое, сакральное.Слайд 17 Но все же - не эмоциональное и не
телесное: эти понятия не входили в горизонт КД. Минимализм,
построенный на этике отказа, вообще вряд ли совместим с гуманистическими ценностями (хотя совместим с магическими и сакральными). Карту безудержной антропологии разыграла в искусстве 1970-х годов другая группа -дуэт Риммы и Валерия Герловиных (Римма Герловина была автором визуальной поэзии, но перформансом занималась вместе с мужем): на шкале, простирающейся от «ничто» к присутствию, от чистого текста к непосредственности тела, их перформансы занимали крайний «телесный» фланг (в проекте Homo sapiens, 1977, художники сидели обнажеными в клетке) Работы Герловиных («игры» в их терминологии) представляли собой развернутую критику аскетического минимализма: в неосуществленном проекте Погружение (1976) зритель должен был оказаться внутри глобуса, вывернутого наизнанку и сцентрированного на человека; в Утопическом проекте всестороннего обмена (1977) предлагалось тотальным образом обменивать все на все, от материков и стран до душ и тел. В 1979 году Герловины уехали из СССР и продолжают свои «игры» в США. Их традиция прослеживается в пост-советском акционизме 1990-х годов, в котором художники работают с фигурой «голого человека» по ту сторону всяких социальных и языковых условностей.Слайд 18 В 1980-е годы, когда после либерализации середины десятилетия
бывшие неофициальные художники начали свободно выставляться и в СССР,
и за границей, русское искусство XX века впервые столкнулось с рынком. Как раз в этот момент во всем мире он переживал подъем и настоятельно требовал от искусства поклонения фетишам станковой картины и технической «сделанности». Новейшее русское искусство, лишенное коммерческого опыта и вообще опыта нахождения в чужом контексте, могло вписаться в эту ситуацию лишь в роли остроумного пришельца извне. Уже в начале 1980-х годов младшее поколение художников неофициального круга примерялось к интернациональному контексту (тогда известному лишь по западным журналам) и одновременно дистанцирвалось от него. О своей «инаковости» художники собирались заявлять либо в духе соц-арта, «советскостью» своих работ (бедностью техники и нарочитой неумелостью исполнения), либо в традиции московского концептуализма, их загадочностью. Постепенно начала вырисовываться и третья возможность: собственный выставочный контекст как произведение искусства. Инсталляция, которая стала главной формой русского искусства 1980-х и 1990-х годов, обеспечивала выставочное пространство, независимое от власти, - как советской политической, так и интернациональной художественной.Слайд 19 Сценой для первой тенденции - веселых, витальных, принципиально
«халтурных» работ (что напоминало нью-йоркскую «новую волну» 1980-х годов,
но отсылало к чисто советскому визуальному кичу) - стала квартирная галерея «Апт-арт» (1982 -1984), чье название превратилось в название модного «стиля». Художники апт-арта игнорировали метафизический и интеллектуальный императив концептуалистов и жаждали искусства витального и развлекательного - перформансов-приключений и объектов-игрушек. Это, прежде всего относится к группе «Мухомор» (Свен Гундлах, Константин Звездочетов, Владимир Мироненко, Сергей Мироненко, Алексей Каменский; 1978 - 1984). В качестве своей первой акции юные художники ворвались на очередную выставку старших нон-конформистов и развесили там свои работы, реанимируя (и пародируя) футуристический жест. Художники отрицали понятие собственности и, следовательно, плагиата, а искусство понимали как образ жизни: в перформансе Метро (1979) они провели под землей сутки, предаваясь разным повседневным занятиям. В своих эскападах «Мухоморы» идентифицировались то с советскими обывателями, то с героями поп-культуры, а чаще всего - с обывателями, мечтавшими о поп-славе. В фотоальбоме Битлз (1982, ГКСИ) они, надев темные очки, играли роль не столько ливерпульской четверки, сколько ее провинциальных советских имитаторов. В том же 1982 году «Мухоморы» выпустили (самиздатовским способом) магнитофонный альбом Золотой диск, в котором читали свои пародийные стихи на звуковом фоне официальных радиопередач.Слайд 20 «Мухоморы» довели повествовательность, свойственную русскому искусству вообще, до
буйного цветения. Константину Звездочетову принадлежала программная в этом отношении
работа Роман-холодильник (1982, ГКСИ) - настоящий холодильник, ярко расписанный, покрытый текстом «романа» и полный «иллюстраций» (самодельных и готовых объектов); по замыслу автора внутри холодильника была описана внутренняя жизнь героев, а снаружи - внешние обстоятельства. Позднее автор Романа-холодильника проявил свою безудержную тягу к апокрифам и псевдофольклору в серии картин-стендов Пердо (1987 - 1988), где представил в живописной форме новый советский эпос - миф о стране Пердо и похищении магического арбуза. Источником стиля явились советские «визуальные отбросы» (плакаты по гражданской обороне, марки и открытки), но фактически Звездочетов изобретал язык «новой сакральности», которая вобрала бы в себя символы православной, языческой и советской религий; отсюда его псевдоикона Дед Мороз (1986, частное собрание, Москва) и «византийская» золотофонная мозаика с изображением культовых героев советских кинокомедий 1960-х годов Труса, Балбеса и Бывалого (1992, собрание Владимира Овчаренко, Москва).Слайд 21 Аналогичная «новая волна» в начале 1980-х годов поднялась
в Ленинграде, в группах «новых художников»-неоэкспрессионистов, лидером которых были
Тимур Новиков и Сергей Бугаев-Африка, и «некрореалистов» (Евгений Юфит и другие). Неоэкспрессионисты вскоре, как и Звездочетов, эволюционировали к игре в консерватизм и православный фундаментализм: в 1990 году Тимур Новиков провозгласил доктрину «неоакадемизма», объявив его петербургской идентичностью и создав, в традиции авангарда, гетто адептов - в данном случае адептов классической красоты. Работы самого Новикова 1990-х годов представляют собой коллажи из бархата, парчи и фотографий культовых героев неоакадемизма - как Оскара Уайльда, так и новейших православных святых. Некрореалисты, которые в 1980-е годы сочетали веселый витализм живописи с анекдотически мрачными сюжетами из жизни мертвецов, выступали, напротив, с радикальных позиций: в живописи (а позднее в фотографии и кино) Евгений Юфит продолжал тему «гниения», которая уже в 1920-е годы стала главной для Крученых и Терентъева - футуристов, оказавшихся в плохо проветриваемом идеологическом пространстве. С 1920-х до 1980-х годов замкнутость этого пространства мало изменилась, и попытка ответить на культурный герметизм страны еще большим герметизмом своих рядов и своей эстетики сближает некрореалистов не только с Крученых, но и с московским концептуальным кругом и второй тенденцией в русском искусстве 1980-х годов, ориентированной не столько на бодрую «не качественность», сколько на уклончивую «непонятность».Слайд 22 Она представлена в основном творчеством младших членов НОМЫ
- Юрия Альберта, Вадима Захарова и группы, называвшей себя
инспекцией «Медицинская Герменевтика». Альберт в серии картин Я не... последовательно присваивал манеру того или иного известного художника, заявляя, что это «не он» {Я не Джаспер Джонс, 1981, частное собрание; Я не Кабаков, 1982, частное собрание). Удобно располагаясь в контексте мировой и отечественной художественных традиций, русский художник снимал с себя всякую ответственность за свое место в ней, в том числе и за жест отрицания, который утратил героизм и превратился в комичную рутину искусства XX века. Вадим Захаров достигал эффекта «я не» другим способом, в своих работах 1980-х, а затем и 1990-х годов присваивая себе многочисленные облики и образы, пришедшие из мира фантазий автора. Творчество Захарова построено как саморазвивающееся квазилитературное произведение со множеством персонажей; картины, перформансы, инсталляции цитируют друг друга, иногда новая работа физически делается из материала предыдущей, и все вместе выступает гигантским, разросшимся продолжением личности автора. Младшее - третье - поколение концептуальной школы и отличается прежде всего своей фиксацией на персональном, приватном и даже психологическом началах.Слайд 23 В этом отношении наиболее радикальную позицию заняла группа
«инспекторов» под названием «Медицинская Герменевтика» (МГ). У «инспекторов» (в
1987 - 1991 годах - Сергей Ануфриев, Юрий Лейдерман, Павел Пепперштейн; позднее Лейдерман работал отдельно, а группа включала других соавторов) грань между творчеством и интерпретацией не просто стерта, но полностью забыта. Все начинается с диалога авторов между собой, зафиксированного на бумаге, затем пишутся квазинаучные статьи, где интерпретируются («инспектируются») любые феномены жизни и культуры на основе любых текстов (от Маркса и Фрейда до Записок о Шерлоке Холмсе и детского фольклора). Позже прихотливые термины-метафоры и образы этих статей иллюстрируются в виде объектов, рисунков и инсталляций: «ортодоксальная избушка», «принцип нарезания», Колобок, ускользающий ото всех, как его авторы - от однозначного толкования своих текстов. «Герменевтике», то есть пониманию, тут противопоставлено «медицинское», успокоительное и потому более проницательное непонимание. Любая идеология рассматривается как персональный и потому нестрашный бред, однако и личные видения приобретают статус идеологии. В проекте Ортодоксальные обсосы (1990) огромные портреты православных иерархов были выставлены рядом с вишневыми косточками на веточках (мякоть была аккуратно съедена); православная аскеза, и отрицание телесности нашли себе совершенно инфантильное и вместе с тем дидактическое выражение. В инсталляции Бить иконой по зеркалу (1994), в которой икона в тяжелом окладе угрожающе нависала над большим зеркалом, грозя в любую минуту разбить его, речь шла об опасности, которую для западной рефлексии (зеркало) представляет византийская вера (икона), но сама дилемма выглядела совершенно сказочной, принадлежащей миру мифов. Инсталляции МГ вообще часто состоят из книг, игрушек и символов православия: именно в литературном, инфантильном и православном языках художники усматривают основы окружающего их культурного контекста.Слайд 24 При том, что творчество многих художников достаточно логично
в своем развитии и может четко делиться на этапы,
московский концептуализм как целостное направление с трудом поддается строгой периодизации. В нем явно превалируют индивидуальные творческие позиции, определяющие эволюцию не столько самого направления, сколько каждого художника в отдельности.Такая внутренняя неопределенность московского концептуализма существенно отличается от стилевой стертости многих направлений в русском искусстве. В данном случае речь должна идти не столько о не выраженности направления, сколько о его принципиальной «открытости».
Новейшая российская художественная сцена, которая начала создаваться после распада СССР в 1991 году (она постепенно перестает быть только московской, распространяясь и в другие города, и в другие страны, где обитают русские художники), - впервые полноценно интернациональная в своих связях и институциональном устройстве. Парадоксально, но интернациональный характер она обрела только в тот момент, когда потерпела крах глобалистская претензия СССР. Однако это место не осталось пустым: его заняла идеология единого мирового информационного пространства.